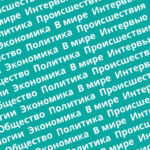Лекарственное средство генной терапии «Элевидис» занимает третье место среди наиболее дорогостоящих медикаментов в мире. Оно создано для пациентов с миодистрофией Дюшенна — редким генетическим заболеванием, приводящим к прогрессирующему разрушению мышечных волокон. В нашей стране препарат получили более 150 детей, однако сотни других не могут пройти лечение из-за возрастных ограничений или медицинских противопоказаний. Их родители вынуждены собирать многомиллионные суммы для проведения терапии за границей.

«Весной 2024-го воспитатель детского сада сообщил нам: ваш ребёнок не умеет приседать. Для нас это стало неожиданностью — любой ведь способен это делать! Наш сын развивался как все сверстники, начал ходить вовремя, лишь речь появилась чуть позднее. Дома он активно двигался — мы видели это сами. Сначала решили переучить его, и после долгих тренировок он смог присесть по-новому. Потом уехали на юг, чтобы укрепить здоровье, а там мальчик начал падать без видимой причины. Идёт — и вдруг падение. Поднимается — через несколько шагов снова падает», — делится отец Савелия Денис Кузьмин.
Местный ортопед в Самаре диагностировал у ребёнка плоскостопие и слабость в ногах: «Анализов не проводили, просто осмотрели и всё. Назначили ортопедические стельки, электростимуляцию и общий массаж. Позже выяснилось, что эти процедуры нам были противопоказаны — мы просто не знали об этом раньше».
После курса массажа Савелий перестал самостоятельно подниматься по ступеням, продолжает Денис. Мать ввела этот симптом в поисковую систему, и результаты указали на возможную мышечную дистрофию Дюшенна. Последующие обследования подтвердили диагноз.
Особенности заболевания
Миодистрофия Дюшенна (МДД) относится к частым среди орфанных патологий: в среднем выявляется у 1 из 3,5–5 тыс. мальчиков. Эти показатели сопоставимы с распространённостью спинальной мышечной атрофии. Патология поражает преимущественно лиц мужского пола, среди девочек регистрируется в единичных случаях.
Первые описания характерных симптомов датируются 1830 г., однако изначально их связывали с одной из форм туберкулёза. Термин «миодистрофия» появился два десятилетия спустя, а современное название заболевание получило в 1860-х годах благодаря исследованиям французского невролога Гийома Дюшенна, который детально описал клиническую картину у 13 пациентов.
Развитие болезни обусловлено мутациями гена, ответственного за синтез белка дистрофина, необходимого для поддержания структуры мышц. У здоровых людей мышечные волокна восстанавливаются после нагрузок, тогда как при МДД повреждения носят необратимый характер. Воспалительные процессы приводят к замещению мышечной ткани жировой или соединительной, что ведёт к потере двигательных функций, нарушениям работы сердца и дыхательной системы. Без лечения к 9–12 годам пациенты теряют способность ходить, а к 20–25 годам наступает летальный исход из-за сердечно-лёгочной недостаточности.
Первые признаки обычно проявляются к 2–3 годам: ребёнок выглядит менее подвижным, быстро утомляется, часто падает, не может прыгать или бегать. Характерным симптомом является псевдогипертрофия икроножных мышц — их визуальное увеличение при общей мышечной слабости. Иногда наблюдается задержка речевого и моторного развития.

«Перед детским садом Артём прошёл все медосмотры без замечаний, хотя мы замечали его медлительность и ходьбу на носочках», — рассказывает его тётя Анжелика Сардарян. — До восьми лет мы объясняли это особенностями характера. Но в школе стало очевидно: ему сложно подниматься по лестнице, он отстаёт от сверстников. После консультации невролога сдали генетический анализ, который подтвердил наши худшие опасения».
Доступные методы терапии
Современная медицина предлагает несколько генотерапевтических подходов, применяемых при определённых типах мутаций. В России пациенты получают благодаря президентскому фонду «Круг добра» препараты аталурен, вилтоларсен, голодирсен, этеплирсен (требуют регулярного применения), а также однократно вводимый «Элевидис» (разработка Sarepta Therapeutics). Препарат касимерсен предоставляется за счёт регионального финансирования.
Разработки других компаний включают остановленные клинические испытания фордадистрогена (Pfizer), текущие исследования SGT-003 (Solid Biosciences) и российского GNR-097 («Генериум» и Университет «Сириус»), завершение которых запланировано на 2030 год.
Принцип действия препаратов
Аталурен позволяет преодолеть стоп-кодон, блокирующий синтез дистрофина. Препараты вилтоларсен, касимерсен и другие пропускают мутированные участки гена, восстанавливая процесс синтеза укороченной, но функциональной версии белка. «Элевидис» доставляет с помощью вирусного вектора ген микродистрофина, компенсирующий мутацию.
Как поясняет Татьяна Гремякова, президент фонда «Гордей», специализирующегося на нейромышечных патологиях, универсального решения для всех пациентов не существует: «Каждая мутация уникальна — даже у родных братьев болезнь может прогрессировать по-разному».
«Элевидис», одобренный в США в 2023 году, стал одним из самых дорогих медикаментов мира ($3,2 млн за дозу). В России стоимость одной инфузии удалось снизить до €2,2 млн благодаря соглашению между фондом «Круг добра» и производителем.

Высокая цена обусловлена сложностью разработки генотерапевтических средств, ограниченным числом пациентов и отсутствием альтернативных методов лечения. Фонд «Круг добра» начал закупки препарата летом 2024 года, обеспечив им более 150 пациентов.
«Эксперты фонда первоначально рекомендовали терапию для детей 4–5 лет на основании клинических данных. Позже возрастные рамки расширили до 9 лет и 1 месяца, исходя из результатов новых исследований», — пояснили в организации.
Истории семей
На момент старта программы в России Савелию исполнилось 6 лет, Артёму — 11. Кузьмины рассчитывали на включение сына в список пациентов после расширения возрастных критериев в 2025 году, но к тому времени он уже начал терапию этеплирсеном. Сардаряны участвовали в исследовании вилтоларсена и продолжили лечение при поддержке фонда.
«Мы надеялись получить «Элевидис» бесплатно, но не смогли», — делится Денис Кузьмин. — Врач предложил пожизненное введение этеплирсена, но мы решили бороться за разовую терапию. Прошли обследование в клинике ОАЭ — противопоказаний нет. Требуется $2,9 млн (около 241 млн рублей). На данный момент собрано 7 млн».
«Специалисты предупредили: важно успеть в этом году, пока не произошли необратимые изменения. Если сын потеряет способность ходить, лекарство её не вернёт. Мы прилагаем все усилия, чтобы успеть», — добавляет отец мальчика.
Артём, по словам Анжелики, благодаря вилтоларсену сохраняет подвижность дольше типичных прогнозов: «В 12 лет он всё ещё ходит самостоятельно — это наша победа. Конечно, ему сложно подниматься по лестнице, носить вещи. Для его возраста и диагноза это очень хороший результат».
Вопросы безопасности
Летом 2025 года американские регуляторы инициировали проверку «Элевидиса» после трёх летальных исходов. Двое детей с МДД скончались в течение двух месяцев после терапии, третий пациент участвовал в испытаниях другого препарата. Расследование не выявило прямой связи с лечением, однако поставки в США временно приостанавливались. В РФ поставки продолжались без перебоев.
Мнение специалистов
Терапевтическое окно для «Элевидиса» ограничено сохранностью мышечной ткани, подчёркивает Татьяна Гремякова: «После потери способности ходить эффективность лечения снижается. Мы не можем рисковать, назначая препарат пациентам вне исследованных возрастных групп».
Эксперт отмечает важность комплексного подхода: глюкокортикостероиды для борьбы с воспалением и физическая терапия для замедления атрофии мышц. Длительный приём гормонов требует контроля за состоянием костной ткани и сердечно-сосудистой системы.
Ключевой проблемой остаётся поздняя диагностика — в среднем диагноз ставят после 7,5 лет, тогда как раннее начало терапии значительно улучшает прогноз. Эксперты ожидают внедрения неонатального скрининга на уровень креатинкиназы в 2026 году.
«Мы видели детей после «Элевидиса» — они бегают, катаются на велосипеде, — говорит Денис Кузьмин. — А наш Савелий сейчас лишён этой возможности. Его жизнь полна ограничений, мы вынуждены оберегать его от малейших травм».
Артём, несмотря на трудности, посещает школу и занятия плаванием. «Мы делаем всё, чтобы его жизнь была полноценной, — заключает Анжелика. — И верим, что лечение позволит ему сохранить активность».